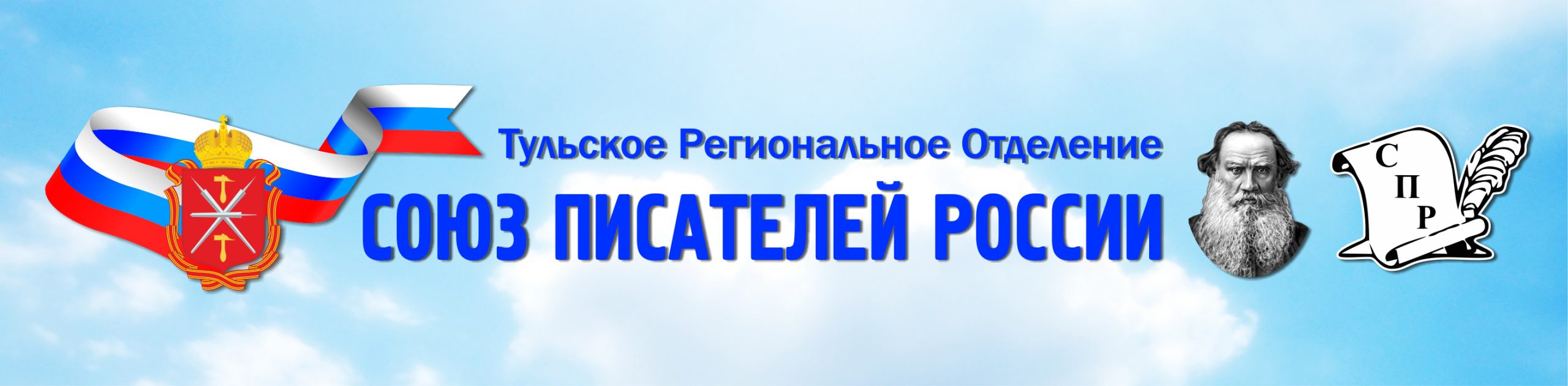Я не заботился здесь ни о красоте слога, ни о пышности и звучности слов, ни о каких внешних украшениях и затеях, которыми многие любят расцвечивать и уснащать свои сочинения, ибо желал, чтобы мой труд либо остался в безвестности, либо получил признание единственно за необычность и важность предмета.
Никколо Макиавелли «Государь»
♦ В эпилоге одной из предыдущих наших книг*, кстати говоря, «северных», мы уже касались безутешной темы: нет сейчас человека, более ничтожного в социальной иерархии, более тихо презираемого в быту, нежели сочинитель художественных произведений, сам себе стыдящейся именовать писателем. Даже от природы задорные поэты, «горлопаны и главари» по Маяковскому, и те сникли. И все это случилось за какие-то три десятка лет! Речь, понятно, идет о наших отечественных реалиях, ибо на Западе – Востоке («Западно-восточный диван» Гёте…) понятие литературы напрочь исчезло намного раньше. Уже и «Нобеля» по литературе там дают, ничтоже сумняшеся, певцам-гитаристам и политангажированным дамам-журналисткам. Горестная тема, но уходить от нее – уподобляться страусу в известной ситуации. Да нам и проще найти нужные слова, ибо, будучи «двуликим Янусом», параллельно с литературными упражнениями ведем и научное исследование, дающее аргументированный ответ на вопрос об исчезновении литературного слова из человеческого обихода так стремительно во времени и не оставляющего даже призрачной надежды хотя бы на частичное восстановление status quo.
Поверьте, мой дорогой мифический читатель, это не недоедающее бормотание пономаря кладбищенской церковки «со святыми упокой», но честное самопризнание. Увы, от этого прежде всего мне самому не легче. По чисто «утилитарной» причине: и без того крайне немногим оставшимся читателям, последним романтикам души, в соответствии с психологической установкой человека, крайне неприятно читать правду о сегодняшнем дне бывшей великой русской и русской советской литературы. Словом, хрестоматийное «мысль изреченная есть ложь» понимается как извечное «правда глаза колит».
Редчайшего ныне читателя мы прекрасно понимаем, сочувствуем ему – ведь в одной связке с ним! Хорошо бы и он осознавал: если во времена Пушкина, Лермонтова и Гоголя литератор, условно говоря, творил для тысяч, максимум для счетных десятков тысяч своих почитателей; в расцвет великой русской словесности, то есть во вторую половину девятнадцатого века, а с учетом стремительного роста читательской грамоты, в последнюю треть этого века и начала века двадцатого, писатель имел уже аудиторию в сотни тысяч; в советские годы, с экстремумом в 50–70-е, счет шел на десятки миллионов, то сейчас – о, горе нам, горе! – современный писатель, отсекая от этого славного имени немногих дельцов-пиарщиков и многочисленных, имя им легион, графоманов, имеет от 1 до ~ 1000 читателей… не миллионов, не сотен или десятков тысяч, а именно от одного до примерно тысячи читателей, конкретных физических лиц, как принято говорить на суконно-цинковом административно-бюрократическом наречии.
Оторопь берет: родоначальник книгопечатания, ювелир из Майнца Иоганн Генсфляйш Гутенберг, тем более его последователи, печатали тиражи в несколько тысяч экземпляров (а это середина XV века!), каждый из которых, особенно папские индульгенции и библии, имели во времени от сотен до тысяч читателей. А здесь: от одного до тысячи; один – это сам автор, вдыхая волнующий свежий типографический запах…
Не поверят опять же: а как ты подсчитал? а справка есть? (вспомните персонажа Янковского в фильме «Паспорт»…). А вот взял и подсчитал, благо много чему учился – в советских вузах, не в нынешних «онлайковых»: инженерному делу, то есть умению системно мыслить, в Тульском политехе, математике в Ленинградском госуниверситете, содержанию и психологии творчества в Литературном институте им. А.М. Горького, Союза писателей СССР – именно такова была принадлежность этой славной «школы Горького». Опять же почти двадцатилетний опыт главного редактора журнала.
♦ Фоме Неверующему, а сейчас мало доверчивых осталось, литераторы и вовсе каждый на своем лужке пасется, что усомнится в обидно малом числе читателей, открою секрет проверки этого антифеномена. Сам изобрел и полтора десятка лет экспериментировал: вторая, научная ипостась исследователя – биофизика приучила только эксперименту доверять.
Итак, сочиняя очередную книгу, стараюсь вставлять в нее, конечно, контекстуально выверено, что-либо касающееся творчества моих коллег по местной писательской организации, как-то: пару стихотворных строчек поэта N. – любимого современного стихотворца восторженно-лирической героини повествования; эпиграф к главе, уже с упоминанием ФИО поэта же М.; явный намек на «нашумевший» роман провинциального писателя К.; сюжетная сценка, в которой обыгрывается недавний скандал с местным литератором О. …И так далее, поток фантазии неиссякаем, когда готовишь легкую, необидную пакость. Как только книга издана сиротским тиражом (на зарплату профессора и бутылочки приличного коньяка, чтобы обмыть, не купишь!), первым делом радостно дарю ее экземпляры литературным собратьям N., M., K., O и так далее по буковкам латинского алфавита: так солиднее, чем кириллица. Излучая добрыми лицами – от рта до ушей и залысин на макушках, те долго и прочувственно пожимают тебе руку, взяв ее в обе своих, клятвенно заверяют: дома после ужина запрусь в своей рабочей комнатке и не выйду из нее, пока от корки до корки не прочту. Это если книжка тонкая. Если толстовата, то обещают за три-четыре дня одолеть.
Радостно потирая все те же руки, с неугасимым авторским тщеславием жду следующей встречи с N., M. И остальными, «помеченными» в своем новом, нетленном творении. Заранее предвкушаю: подходит N., благодарственно жмет мою длань (своими двумя): «Вот спасибо, дорогой мой коллега! Вспомнил-таки, что есть на свете поэтишка N., а твой персонаж строки моего лучшего стихотворения процитировал: «Прекрасны розы на рассвете, а ты, богиня, ночью горяча». Признателен!» Затем и M., потом К. за ними О. выстраиваются в очередь благодарений. Я-то уже знаю, что О. восхитится: как замечательно обыгран судебный процесс, который он недавно затеял с ловким плагиатором Q. … и так далее.
Но попал ваш покорный слуга в ситуации романтической девушки Сольвейг: «Весна пролетела и лето прошло…» из драмы Ибсена «Пер Гюнт», музыка Эдварда Грига. Сколько бы раз не встречался после издания книги с N. и его коллегами, обозначенными латиницей, но за пятнадцать лет ни один из них не поблагодарил. То есть все изданные за эти года полтора десятка лет книги они даже не раскрывали! Эврика!
… Мне возразят: что ж хочешь? это же писатели, им некогда читать, они перо из руки не выпускают, свои ПСС сочиняют! И к случаю вспоминаю анекдот литинститутских времен о приеме чукотского классика в Союз писателей: «… И что вы, уважаемый, в последнее время читали из отечественной и зарубежной художественной литературы?» – «Хе-хе, однако, чукча не читатель, чукча писатель!» Без обиды для наших славных чукчей… Тот случай, когда справедлива трансформированная пословица: «Сапожник не носит сапоги другого мастера».
… Значит, диапазон читательского интереса смело снизим до 1…500, причем верхние 100…500 отнесем к публикациям в журналах, выходящих «в бумаге» таким же тиражом. Но здесь не обольщайтесь: читать будут намеренно не вас, избранника муз, а весь журнал in summa. Опять же человеческая психология: если купил, кровные потратил, то обидно, если все не прочитаешь! Это как не съесть целиком заказанный в ресторане бифштекс за неимоверную цену.
Остается 1…100 читателей произведения, изданного в виде авторской книги. Сто? да это же целиковая рота на марше! Но не радуйся ста читателям, как будто сотенную бумажку с видом Большого театра на дороге нашел (лучше того же достоинства долларовую банкноту с портретом Франклина). Дело намного хуже.
♦ Сразу исключим из оставшейся сотенки два десятка знакомых коллег-сочинителей (см. описанный выше эксперимент); остается в загашнике, в домашней кладовке, восемьдесят экземпляров. Еще тридцать ближним и дальним родственникам, давним друганам, коллегам по работе, в главные городские библиотеки (место действия – областной город)… словом в те руки и на те полки, где книгу никто и никогда не раскроет. Вот и полусотенка осталась. Сакральное число: ни много, чтобы задумываться: куда девать; ни мало, чтобы успокоить себя: а-а-а, на всякий случай пусть полежат, много места не занимают, есть не просят. Опять же пять десятков возможных читателей! Это вам не фунт изюма, пока еще натурального, не китайского из переработанной пластмассовой тары…
Но печатать книги в твердом переплете безумно дорого для безгонорарного писателя, а сброшюрованные в мягких обложках, склеенные по торцам дешевым китайским же клеем, очень скоро для чтения становятся непригодными: рассыпаются при раскрытии страниц. Волей-неволей надо избавляться от них, раздавая случайным людям, а если есть возможность посылать по почте «за счет заведения», то осчастливливать редакции литературных журналов и правления писательских союзов, которых сейчас в наличии имеется поболее чем пальцев на обеих руках. Уже не надо пояснять: никто и нигде эти «авторские дары» не раскроет, названий и фамилии сочинителя в памяти не отложит.
И как добрый старинный бухгалтер-счетовод, в роговых очках и в надетых на рукава пиджака суконных нарукавниках траурного цвета, пощелкаем костяшками счетов, подведем итог: из изданных ста книг раскрытыми оказались не более десяти. В основном машинально, из вежливости при получении подарка, раскрытыми. Из них «пролистаны» шесть-семь, а собственно прочитаны не более трех-четырех … включая автора (см. выше). И это радует безмерно: не один во Вселенной!
«Бездумный гротеск, фантазия воплощенного пессимизма, следствие выпитой от творческой безысходности полубутылки империалистического виски «Джонни Уокер» или чего попроще из «расейского»!» – воскликнет читающий эти строки, то есть один из тех трех-четырех реальных читателей.
Увы, мой редкостный и досточтимый, это самая что ни на есть горькая правда. У моих книг также читатели суть: супруга, грамотная, из учительниц, приученная к чтению матерью, педагогической доцентшей; сын, дитя переходного периода отечественной истории, единственный читающий, как он сам говорит, из своих сверстников; пара-тройка постоянных авторов журнала «Приокские зори» и одна профессиональная критик-литературовед из Минска. Исполать им! Все точно просчитано, экспериментально (см. выше) подтверждено, аналитически взвешено и пр. Не зря же двойной доктор наук и двойной профессор: не лыком шит и научной методологией владею отменно.
Огорчу и вас, собратья-литераторы, у каждого столько же читателей. Сами можете аналитически и экспериментально проверить…
«Но как же литературные премии (почти все безденежные), награды, звания, которых сейчас превеликое множество и только самый ленивый ими обделен? Это снова Фома Неверующий встрянет. Шалом леха адонаи Христов апостол Фома, поприветствуем его из уважения на арамейском, но в части литпремий нынешних разъясним.
Опять же исходим из наиболее достоверного, то есть из личного опыта. Когда полтора десятка лет тому назад учреждали литпремию за лучшие публикации текущего года в «Приокских зорях», сам бог подсказал здравую мысль: не создавать всякие комитеты, жюри и пр. из видных писателей, а принимать решение самой редакцией – только на основании знакомства с публикуемыми в журнале произведениями. Поэтому небезосновательно полагаем: премия «Левша» имени Н.С. Лескова есть честнейшая из других, подобных ей… безденежных в том числе. Есть с чем сравнить. Недавно друг нашего журнала, входящий в одно премиальное жюри, откровенно рассказал о своем коллеге по этой организации: тот ставит высший оценочный балл своему хорошему знакомому и «на автомате» ставит нулевую оценку всем остальным книгам, участвующим в конкурсе. Естественно, эти книги, включая премиальную «от знакомца», оценщик не раскрывает.
Грустно, девушки, грустно. В пору действительно утешиться рюмахой доброго шотландского «Джонни Уокера». Не потому что к Западу приязнь испытываю, а просто по материнской линии имею дальних предков из шотландских переселенце в Россию.
♦ Ах, боже, сколько скуки
В искусстве палача,
Не брать бы вовсе в руки
Тяжелого меча…
– начинает своего знаменитого «Нюрнбергского палача» Федор Сологуб, далее описывая начало жизненного пути своего героя:
… И я учился в школе,
В стенах монастыря,
От мудрости и боли
Мучительно горя…
Первую строфу отнесем ко всякому, кто, подобно нам, берется за описание тягостного положения современной литературы и ее тружеников (см. выше). Вторую же к нижеследующим рассуждениям о «качестве», так сказать, этих самых современных труженников пера.
В русской классической литературе, а тем более в советской, заорганизованной в рамках Союза писателей СССР, писательство было профессией. Даже не столько по присказке «какова пса ловля, такова ему кормля», сколько по профессиональному мастерству, к которому всякий пишущий стремился по мере отпущенного ему природой таланта, ориентируясь на признанные авторитеты. То есть тогда писатель всю жизнь учился, а не просто «выдавливал из себя».Разумеется, и в девятнадцатом веке, и в двадцатом существовала динамическая литературная пирамида. Писателей было достаточно, но в антологию русской литературы входили относительно немногие. Это естественно и неотрицаемо.
… В шестидесятые-восьмидесятые годы, когда прежде сплошь деревянная Тула радением первого секретаря обкома Ивана Харитоновича Юнака, давнего знакомца Брежнева еще с довоенных днепропетровских времен совместной партработы, на глазах перестраивалась в «пятиэтажный город» (это название романа классика советской латышской литературы Вилиса Лациса…), народ, переселяясь из родовых домишек в новые квартиры, массово избавлялся от всевозможного старья. Поэтому в те годы тульская «Буккнига», располагавшаяся в самом начале проспекта Ленина, почти под стенами кремля, радовала серьезных книголюбов (не мелких перекупщиков!) изобилием староизданной литературы девятнадцатого – начала двадцатого веков, в которые собственно и создавалась русская литература. Заходя после работы – благо по пути – в букмаг, чего только не отыскивал там! Кое-что и приобретал на скромные инженерные рубли. Наряду с разрозненными томами собраний сочинений отечественных и зарубежных классиков – от дешевых «бесплатных приложений» к журналу «Нива» до фабрично тисненых томов издательства Товарищества М.О. Вольф и совершенно роскошных изданий А.Ф. Маркса и Товарищества «Просвещение» – и уже полузабытых, а некогда популярных писателей навроде В.Г. Тана, Ольги Шапир, С.В. Максимова, А.А. Потехина, П.М. Невежина, Н.Я. Соловьева и других, часто встречались книги авторов, имена которых не значились ни в каких литературных энциклопедиях, даже в восьмидесятитомном Брокгаузе и Ефроне.
И ведь совсем недурственно написаны, главное, литературно грамотно: семейные помещичьи хроники, романы с авантюрными завязками и развязками, «дамская» беллетристика, вроде бы хорошо рифмованные стихи, даже пьесы и поэмы. Но при чтении их чувствовалось: автор просто отдыхает в своем сочинительстве от более важных для него дел; да, безусловно, склонен к литературному творчеству… но и только. То есть не имеет стремления стать писателем профессиональным, трезво оценивая потенциальные возможности своего скромного дарования. А потому и не отдает всего себя литературному творчеству, главное – не относится к своему сочинительству как учебе длиной в собственную жизнь, о чем уже было упомянуто выше.
В чем-то схожая ситуация и сейчас, но с тем огорчительным отличием, что (а) напрочь отсутствует понятие авторитета; (б) по этой причине нет устремления к профессионализму, а еще более существенная – «нет кормли» от литературы. Из совокупности (а) и (б) следует: современная писательская среда суть непрофессиональная по определению, сплошь любительская и не имеющая даже представления о том, что писательство неотделимо от учения писать!
Всего два десятка лет назад (в девяностые годы еще сохранялась инерция советских времен, наличествовали литературные кадры того же времени) ситуация (а) и (б), но последняя уже без «кормли», представлялась некоей пессимистической фантазией. Взять ту же тульскую писательскую организацию – типичную для всех остальных в стране областных и республиканских. Весь ее состав на исходе советского времени был «обилечен» членством в Союзе писателей СССР. А вступить в Союз тогда, как совершенно справедливо гласила расхожая призказка, было равнозначно достижению степени доктора филологических наук. То есть двадцать-тридцать членов Союза писателей на два-три миллиона жителей области (речь идет о среднестатистическом по стране), что означает одного писателя на сто тысяч населения? – редкие профессии могут представляться таким масштабированием; разве что генералы, высшие в области партийные и административные чины могут себе такое позволить…
Не случайно, не оговоркой мы употребили выше слово «профессия». Да, состав тех же областных писательских организаций был именно профессиональным! Более половины членов тульского отделения Союза писателей окончили Литературный институт или Высшие литературные курсы (двухгодичные) при нем. А это был еще тогдашний Литинститут! – школа Горького. Другая же часть либо имела высшее филологическое образование*, или же занималась неформально литературным самообразованием. Имелись и творческие самородки, что свойственно обычно поэтам.
Тульские писатели не замыкались на издании своих книг, а достаточно активно участвовали в местной и всесоюзной литературной жизни: от публикаций в областной периодике до авторства в «толстых» столичных журналах. Даже публиковали в них (Александр Харчиков, например) романы с продолжением из номера в номер. А это по тем временам «высший класс»! Уже не говорим о писательских собраниях, семинарах, конференциях всех уровней, литературных чтениях, творческих командировках, выступлениях на предприятиях и в организациях и пр.
♦ В нынешней областной писательской организации Союза писателей России (а других организаций еще под десяток…) членов таковой поболее, но имеющих литературное образование, то есть окончивших Литинститут или Высшие литературные курсы, осталась от прежних времен трое. При этом за прошедшие тридцать с лишком лет из вновь принятых – ни одного! И в перспективе не предвидится. Обычная реакция на подобные слова, что-де «в институтах на писателей не учат!» – малоубедительная фигура речи. Правда, почему-то подобного не услышишь в адрес артистов, музыкантов, художников, журналистов и представителей других творческих профессий. Наоборот, даже оговариваются: артист такой-то даже не имеет соответствующего образования – самородок!
Конечно, Литинститут, тем более ВЛК, из литературного tabula rasa за время обучения не смогут вырастить «среднестатистического» писателя, особенно поэта, но ведь и в «Школу Горького» (в советское время конкурс туда не уступал театральным и пр. вузам) допускали к сдаче обычных экзаменов (к ним число абитуриентов сводилось как 2:1 – чтобы всем легче было…) после серьезного творческого отбора: по присланным публикациям и/или рукописям! То есть бесталанные люди туда и не шли, а другие отказ по результатам отбора получали. А обучение давало, наряду с университетским курсом филологии, практическую литературную школу – семинарский день в неделю, которые все годы обучения вел один и тот же писатель или поэт «с именем». Даже не в группы, как обычно в вузах, но в семинары по 10…15 студентов объединяли. Я, например, состоял в семинаре известного писателя-фронтовика, первого главного редактора возобновленного «Нашего современника» Бориса Михайловича Зубавина. Что ни семинар, то классик советской литературы его возглавляет… И учебные литературные дисциплины не абы кто у нас вел. Аза Алибековна Тахо-Годи, автор всех советских учебников по истории Древнего мира и его мифологии, заведующая кафедрой классической филологии МГУ, вела античную литературу, читая (наизусть, конечно) по-древнегречески целиковые главы из «Одиссеи» и «Иллиады». Еремин, Артамонов – имен много – по их учебникам же и монографиям во всех гуманитарных вузах страны изучали русскую, зарубежную литературу, творчество литературных эпох России и Европы. Даже зачеты по скромному, семестровому курсу кинематографии («Искусство кино» он назывался) сдавали не кому иному, как Леониду Траубергу, классику советского кино, автору трилогии о Максиме…
Преподававший поэтику русского фольклора, молодой тогда Константин Кедров, ныне известный своей книгой «Поэтический космос», выдающимся философско-поэтическим произведением (М.: Советский писатель, 1989), время от времени публикуется в наших «Приокских зорях». Критик Владимир Гусов за тридцать лет возглавляет Московскую писательскую организацию. Зачет по своей дисциплине он принимал у нашего курса на пару с будущим министром культуры России – правда, недолго и как-то незаметно он министерствовал… На душе становилось легко, когда встречался в коридорах «Дома Герцена» всегда веселый и улыбчивый армянин Гарольд Эль-Регистан, сын соавтора Сергея Михалкова по словам Гимна Советского Союза. А руководители поэтических семинаров – сплошь самые известные стихотворцы того времени… за исключением, быть может, Евтушенко, не имевшего высшего образования. По-отечески всех нас опекал ректор Владимир Федорович Пименов, бывший «сталинский главный по театрам». История и современность в единых лицах сливались на Тверском бульваре, 25…
В роскошном же «сталинском» (опять же) общежитии с видом на близкую останкинскую телебашню, где один из этажей занимала гостиница Союза писателей, за годы учебы перевидали весь литературный бомонд страны. И на своем этаже кого только не увидишь? – вот Олжас Сулейменов, поэт и член ЦК комсомола Казахстана, автор много шумевшей тогда книги «Аз и Я» (то есть Азия), входит в комнату к своим землякам-студентам. А за стенкой, в соседнем «нумере», весь вечер, до полуночи, гомон, песни и топот лихой пляски: это зашел к своим «курянам» (если не ошибаюсь с городом?) Николай Тряпкин, поэт в зените своей всесоюзной известности…
Даже могли позволить себе легкий снобизм, например, выбирать куда отправиться после занятий: на дневной спектакль с Высоцким в Театр на Таганке на дармавщину или в любимую литинститутскую пивную «Серебряная ладья», что в подвале дома между зданиями Моссовета и Генеральной прокуратуры СССР…
Не сочтите сказанное за нахлынувшие ностальгические воспоминания. Просто сразу поймете, чем являлся Литинститут для своих воспитанников: давал базовое филологическое, литературное образование; на семинарах руку будущего сочинителя романов и поэм, рассказов и сонетов тож, умело направлял известный писатель или поэт; но, пожалуй, самое практически полезное, чего не приобретешь ни в какой другой обстановке, это «вживание» в литературный мир, его творческую мастерскую, налаживание дружеских связей со своими однокашниками со всего Союза, из других стран… афганцы, эфиопы, гэдээровские немцы – кто только не учился с нами или близко к нам по годам, включая будущего президента Монголии… и будущего же главаря чеченских боевиков Яндарбиева*. Мир он разнолик.
Словом, такое «вживание» дает понять будущим мастерам пера, что не боги горшки обжигают, но к горшечному делу надо приступать с определенными навыками мастерства…
♦ Вот уже тридцать лет как все это кануло в Лету, реку забвенья о некогда великой русской и русской советской литературе и самой читающей стране мира – не в лозунгах, но в самой что ни на есть реальности. И что имеем? А в наличии, как это ни грубовать звучит, дырка от бублика – это о крохотной читательской аудитории; сапожник без сапог – о безлошадных писателях; а в целом о тлеющем литературном процессе сто лет назад проскандировал лихой наш поэт: «Жили-были я и он, подружились с похорон…» Имя намеренно не называем: хоть и не велика литературная тренировка, но все же поройтесь в памяти… или в трижды треклятом интернете.
Кстати об интернете. Одно время телерадио-официоз, комментируя падение тиражей издаваемых книг, их невостребованность, то есть отсутствие читателей, с восторгом вопиял в том смысле, что читатель никуда не исчез, просто переключился с бумажных книг, источника бытовой пыли, к чтению с экранов мониторов, ныне всяких там экранов-дощечек (о том, что интернет есть источник мозговой пыли, дипломатично массмедиа умалчивает). Дудки и шиш с маслом! – снова оговоримся по-фольклорному: неполиткорректно, но вековая народная мудрость важнее. С экранов читают-смотрят что угодно, только не художественные книги. Впрочем и все иные. Это каждый может проверить: по самому себе, своим родственникам и пр. Лично я в последние три десятка лет «всеобщей компьютеризации» – при широком круге общения и природной наблюдательности – знал только одного человека, читавшего книги с этакой мобильной штуковины с экраном в формате обычной книги. Читал же он классику потому, что был советского воспитания; читал с экрана по чисто «технической» причине: работа его связана с постоянными длительными командировками. Не сумки же с полными собраниями сочинений с собой возить?
Стоп-стоп! Зарапортавался. Еще один давнишний знакомый читает с экрана свежие номера «Приокских зорь» и других тульских художественных изданий. Он всегда должен быть в курсе, поскольку ведет на местном радио литературно-просветительские передачи. Если кто в городе и области еще помнит смысл слов писатель и литература, то только благодаря ему… Честь и хвала Виктору Васильевичу!
То есть внушаемое с ТВ-экранов мнение о пользе «новых технологий» – слышать этого, прежде уважаемого технического термина, слова не могу! – для целей просвещения и культуры – это «сказки бабушки Телевизоровны». Был такой периферийный эквивалент передачи «Спокойной ночи, малыши» на мурманском телевидении шестидесятых годов – из детских заполярных воспоминаний…
Чтобы перейти к следующему разделу, приведем многозначительную цитату из книги «Беседы Вельзевула с внуком» Георгия Гурджиева, своеобразного философа, эпатажного мистика и… однокашника Иосифа Виссарионовича, тогда Джугашвили, по духовной семинарии: «И поэтому сегодня, мой мальчик, на этой несчастной планете каждый взрослый человек вместо того, чтобы получить подлинные знания, которыми нормальное трицентричное существо должно обладать о событиях, произошедших на его планете в прошлом, изучая все механически и бессознательно, «воспринимает» всем своим существом «информацию» о Египте и занимается различными спекуляциями об этом при помощи своего Разума».
♦ Как тут не поверить в провидчество столь загадочных мистических личностей как Рерих, Блаватская и Георгий Гурджиев! Не зря же в тридцатые годы Сталин часто интересовался: где находится и чем занимается его бывший однокашник… Сам автор цитированной книги выделил закавычиванием слово информация, причем совершенно в нынешнем ее понимании как цифрофрения (термин наш). И ответы – в контексте сегодняшнего умаления литературного слова – на традиционные русские вопросы Кто виноват? и Что делать? следует искать в этой самой цифрофрении, то есть в стремительном угнетении аналогового, творческого мышления современного человека, замещаемом цифровым, утилитарным, расчеловечивающим мышлением цифровым – что есть мощнейшее оружие глобализации*.
… Весьма многие ныне пишут о гибели русской художественной литературы (на Западе она давно сгинула) в ее естественном двуединстве «писатель читатель», приводя почти что стандартный набор доводов: возвращение атавизма частнособственничества, равно как и буржуазного «homo homine lupus est», ускорение темпа жизни («не до того, Федя, не до того»), технизация и цифрофрения современного мира, «усталость всероссийкая» от частой смены ситуации в стране за последние десятилетия, деидеологизация и отсутствие нравственных и вообще любых ориентиров («Если к правде святой мир дорогу найти не сумеет…») и пр., и пр.
Очень умно, обстоятельно пишут. Мы с удовольствием публикуем произведения авторов таких рефлексий в «Приокских зорях», с интересом читаем их материалы в других журналах. Самое огорчительное то, что проницательные писатели-публицисты забывают о правиле логического вывода: из причины вытекает следствие, но никак не наоборот: главенство дедукции над индукцией. А перечисленные выше доводы суть именно следствие. Нетрудно вроде бы назвать истинную причину, но… скорее всего любого человека внутренне страшит, отвращает категорический императив. А в данном случае это непреложность законов эволюции, то есть социальной эволюции человечества в настоящий период, которые непререкаемо и неотрицаемо гласят: в развертывающийся сейчас период глобализации биосферно-ноосферного перехода человек разумный, творческий стремительно перерождается в биотехнического, цифрофренического робота – придатка глобализующейся мегамашины, управляющей посредством мировых телекоммуникационных сетей уже во многом расчеловеченным (термин А.А. Зиновьева) человеком – похоже на тавтологию, но это наиболее точное определение. А таковому субъекту глобализации художественное слово, словесность в целом, не то что не нужны, не востребованы, но прямо противопоказаны самим процессом расчеловечивания по его определению.
Исходим из фактора расчеловечивания, которое неотвратимо и сейчас, что называется, «на взлете». Это наша действительность, уже давно никем из «высоколобых» и просто здраво мыслящих людей не отрицаемая. А на вопрос «зачем эволюции такое издевательство над человеком потребовалось?» – читайте опять же книги: «западников» Сантаяну, Тоффлера, Фукуяму, Тойнби… Сорос опять же хорошо пишет о своем финансово-олигархическом империализме; но лучше своих, отечественных: от Достоевского и Вернадского до А.А. Зиновьева и Вадима Кожинова. Наши аргументированные соображения на этот счет смотрите в серии «Живая материя и феноменология ноосферы», на которую ссылка дана выше. Надеемся, не совсем пустые соображения, если недавно за один из томов этой серии автор был удостоен старейшей в России, престижной Макариевской премии в области естествознания и точных наук (учредители: Московская Патриархия, Российская академия наук и Правительство Москвы). Не в похвальбу себе говорим, но для сущей объективности.
… А выраженный гибридный характер глобализации, внешне воспринимаемый как алогичный «ни да, ни нет, а третье, четвертое и так далее подразумевается», рассчитан на массовую психологию … и психоистерию. Что мы и наблюдаем сейчас в опидорасенных, как любил говорить Никита Сергеевич, европах-америках.
… Вспомним аналогичный пример более чем столетней давности, а именно описание Львом Толстым приезда в Петербург французского президента Пуанкаре с целью вовлечь Россию в антигерманскую Антанту. Лев Николаевич предельно язвительно описывает, как на торжественной встрече оркестр исполнил «Боже царя храни» и «Марсельезу», в словах которой как раз и рекомендуется этих самых царей изничтожить… Чем не гибридный политический подход?
♦ Как разоткровенничался (за нехитрой сервировкой) знакомый труженик массмедиа, когда верстают программу радиовещания на ближайшие сутки-двое и обнаруживают «пустое место» на полчаса-час эфирного времени, то втыкают, особо не задумываясь, уже ставшие доброй стариной одну из двух безнадежных и вечных тем: почему народ перестал есть рыбу и о полисах ОСАГО. То есть бессмысленная и пустопорожняя болтовня. Зато пустое место в эфирном времени заполнено.
Пустопорожнее же потому, что всем прекрасно известны причины отсутствия рыбы в рационе трудящихся (и не очень) и вековечных – с века двадцатого – недоумок с автострахованием. Поясним для наивных и легковерных. Для ясности примера гибридного расчеловечивания.
Фосфор является одним из наиболее важных биогенных элементов, то есть элементов поддержания и эволюции жизни. Уж поверьте доктору биологических наук. Для человека фосфор – основа «энергетики» процессов мышления и, собственно как и для всех биообъектов, механизма наследственности, ибо молекулы ДНК и РНК содержат его в своих нуклеотидных основаниях. Нет регулярного поступления фосфора – процессы мышления и механизмы наследственности человека нарушаются. Наиболее усвояемый организмом фосфор человек получает от съедаемой рыбы. И в диетологии подсчитано: человек должен для покрытия дефицита фосфора съедать в год не менее восьми кило рыбы; хоть за раз или по двадцать граммов в день. Это издавна, до того еще как биология стала строгой наукой, было известно: те же посты церковные, когда дозволялась в пищу только рыба («ее же и монаси приемлют…»); а вспомните русскую классику: обычный сюжет, когда персонаж повествования встречает на зимних дорогах обозы с возчиками-солдатами: «Что, солдатики, за рыбой едете?» И так далее. А в советское время – биология уже строгая наука! – уже целенаправленно заботливая о народе власть (это не диссидентский юморок, но истина!) ввела в общепите рыбный день (четверг – партийный, среда – рыбный…), рыба никогда не была торговым дефицитом. Более того, дешевизна, то есть всеобщая доступность, рыбы обеспечивалась государственной доплатой, то есть она продавалась ниже себестоимости!
… Гибридная война западного империализма-глобализма против России с начала девяностых годов умело использовала «рыбный демпинг»: лишила страну источника жизнеобразующего фосфора – рыбы. Дескать, тупейте и вырождайтесь в поколениях, русские Untermensceh’u! И сделано было мгновенно, в русле всеобщей приватизации «по гражданину с растительностью рыжего оттенка». Как и у Борьки Джонсона. В одночасье все рыбные флота страны развалили, суда передали частникам, а те выловленную рыбу, не заходя в родные порты, оптом продают западно-восточным странам «золотого миллиарда». Чтобы еще больше умнели в своих глобалистских кознях.
Если на моей исторической родине в советские годы два мощнейших мурманских флота – Траловый и Сельдяной – всю страну снабжали треской и сельдью, соответственно, то сейчас в самом Мурманске (земляки пишут) считается за счастье купить эту самую треску… привезенную из Норвегии, куда российские (по флагу) рыбопромысловые сейнеры сдают-продают все свои уловы.
Такая же ситуация и на Дальнем Востоке. А в магазинах страны в условно «рыбных отделах» народ с испугом, ускоряя шаг, проходит мимо витрин, в которых, с этикетками двух-трехзначных цен за сто грамм, лежат мумифицированными останками бывших рыб, семижды семи раз перемороженные, с многолетней биографией после их вылова…
А что касается полисов ОСАГО, что здесь еще проще: столкновение двух могущественных сил: власть, по своему назначению отвечающая за безопасность на дорогах, и еще более мощное лобби, живущее и жирующее за счет наращивания импорта легковых автомобилей (кстати, 95…98% населения вовсе не нужного….).
Теперь же смело можем добавить: для занятия «пустых мест» в телерадиопрограммах с таким же успехом можно использовать беседы на темы современной литературы с безутешными «расейскими» вопросами: Кто виноват? и Что делать?
… Получится такой же пустопорожний треп, а на указанные вопросы, учитывая, что истинное status quo объяснить политкорректность не позволяет, можно часами петь «песни народностей» – по Ильфу и Петрову.
♦ Но мы не политкорректные СМИ, поэтому ответим на хрестоматийные вопросы. «Виновата» вроде как эволюция человечества, которой, по ее никому не ведомым законам, потребовался биосферно-ноосферный переход, условием которого является расчеловечивание «бывших человеков» (см. выше), для которого литература нужна как козе баян. Но обвинять эволюцию все одно, что гневать бога упреками в извечном несовершенстве сотворенного им мира, где никак не улягутся рядом волк с овечкой… Примем такой ответ как априорный, где некого судить и сами судимыми не будем.
Но вот по части что делать? Порассуждать следует. В самом деле, не скорбить же молча, набрав в рот воды? Вода ведь не грузинский коньяк «Греми» десятилетней выдержки и не шотландский виски «Балантайн», что тоже семь лет томился в дубовой бочке, много не выпьешь, а выплюнуть и воду жалко. Так для какой высокой цели в наше неуютное, оцифрованное и сугубо утилитарное время следует (безгонорарно и безвестно) писать-сочинять многотомные эпопеи, задумчиво-нравоучительные романы, душерасслабляющие повести, занимательные рассказы и новеллы? А поэтическое творчество, которое по определению не мыслится без скандирования рифмованных строк поэтами, воодушевленными, с горящими глазами, в различных людских сборищах: от кухонной компании на троих творческих личностей до зала Политехнического музея, где некогда тот же Маяковский состязался с Игорем Северянином за титул короля поэтов (Маяковский проиграл). Где им теперь собираться, главное – для кого скандировать-то вирши? Тем более в эпоху рукотворных пандемий и гибридных войн по планам глобализаторов-империалистов. Опять же, Федя, не до того…
Вопрос поставим еще проще: для кого писать-творить? Не уподобляется ли современный литератор пацану Ваньке Жукову, что, обливаясь горючими слезами («ейной (селедкиной) мордой мне по харе!») пишет жалостливое письмо на деревню дедушки, Константина Макаровичу? То есть без адресата – получателя, да еще в адрес времени: электронное письмо по e—mail.
Возможный ответ в наводящих вопросах из разных исторических эпох и в различных сферах творчества. Разве задумывался о возможных адресатах юный математический гений Эварист Галуа, когда в ночь накануне гильотинирования в лихорадящей спешке исписывал страницу за страницей формулами, из каковой рукописи вышла вся современная алгебраическая математика? А ведь в эти листы бумаги тюремщики запросто могли завернуть свои скудные революционные па́йки: вареную луковицу, яйцо и кусок хлеба…
Отскочим на два тысячелетия вглубь истории: думал ли Платон, создавая свои сократические диалоги, что записи его учеников не только переживут их самих и самою Элладу и станут основой всей современной европейской философии? Или, спустя всего лишь несколько веков, апостолы-евангелисты и их последователи, создавая корпус Нового Завета – Христовых заповедей, самое многое думали сохранить это учение в узком кругу обитателей римских катакомб, где собирались на всенощные бдения тайные христиане. Вряд ли им приходил в головы даже намек на мимолетную мысль, что скоро, очень скоро по неторопливым тогда историческим временным меркам, христианство начнет семимильными шагами овладевать телами и душами миллионов, а затем и миллиардов людей по всему земному шару, станет ведущей канонической религией, а главное и эпохальное: даст всемирному человечеству высочайшую и единственную в своей неповторимости мораль и этику вселенского добра, побеждающего зло: от Заповедей блаженств Нового Завета – Нагорный проповеди Христа. И вовсе помыслить не могли апостолы-евангелисты, что в немыслимо далеком от них двадцатом веке эти заповеди очеловечатся, овеществятся в пробном, опережающем ходе эволюции созданием мировой же системы советского социализма. Причем этика и мораль которого один-к-одному, как инженеры ставят масштаб на чертежах, будет взята из Христовых заповедей, только под другим названием: «Моральный кодекс строителя коммунизма»…
♦ Вот мы и подошли к ответу на вопрос: что делать? «Поэтом можешь ты не быть…» «Если можешь не писать – не пиши» и так далее – это правильно сказано людьми, знавшими толк в писательском ремесле, для подступа к которому важно оценить свои возможности, то есть сочетание данных природой способностей и уверенности в своей целеустремленности. «Есть разница, – пишет в своей эпохальной «Алхимии слова» Ян Парандовский, – между писателем, которого вдохновила идея, и писателем, призванным самим писательским инстинктом. Первый выбирает перо среди нескольких возможных орудий деятельности и, если оно было для него единственной возможностью, откладывает его, как только выполнит свою миссию. Для второго же творчество чаще всего прекращается вместе с жизнью».
… Замечу, что уникальную эту книгу должен проштудировать каждый примеряющий на себе виртуальные эполеты писательского мундира, а затем сделать ее настольной. Не столько справочным руководством, сколько своего рода контролирующим чтением «на каждый день». Или «На каждый день» – как название сборника афоризмов и изречений у Льва Толстого (тт. 43, 44 ЮбПСС в 90 томах).
Из слов же Яна Парандовского следует: литературное творчество не баловство, не эпатаж (хотя бы Оскар Уайльд и бахвалился, что пишет от скуки жизни…), но исключительно серьезное занятие: и когда оно является «единственной возможностью» достижения цели, и если оно становится целью и содержанием жизни. Ибо в обоих случаях имеет место творческое самовыражение. И это не приевшийся словесный штамп, но терминологически и семантически точное определение. Вся сущность в единстве творчества и самовыражения, а отдельно это совершенно иные понятия. Ведь и творчество может быть вовсе не самовыражением, например, сугубой профессией. А великое братство «датских поэтов»? Так же и самовыражение, как социально-биологический инстинкт, в той или иной степени присущее всем людям, но – без дополняющего его творчества. Примеров и искать особо не надо: женские, извиняемся, многочасовые разговоры, когда собеседницы говорят одновременно, не прислушиваясь к словам визави – типичное самовыражение. Инверсивный спектакль для двоих… можно и для большого числа.
И вот здесь – внимание! Следует верно оценивать акценты, логические ударения в словосочетании творческое самовыражение, то есть когда то и другое присутствуют в человеке, вступающем на литературную стезю, но в различной степени соотнесения. Вне всякого сомнения, творческое начало, как внешнее отображение литературного таланта, есть непременное условие реноме состоявшегося писателя. А самовыражение – это индивидуальное преломление видения мира, которое писатель запечатлевает, условно говоря, на бумаге, после чего созданное им произведение автономизируется от автора, существует уже своей, виртуальной жизнью. И жизнь эта протекает веками, а то и тысячелетиями, лавируя между преградами забытья и равнинами памяти в общественном мнении. А мнение это капризно и переменчиво, постоянно колеблется между догмами: «мысль изреченная есть ложь» и «рукописи не горят».
Во времена устоявшегося течения литературного процесса, как оно в русской литературе имело место быть в девятнадцатом и двадцатом веках, когда писательство являлось профессией, были авторитеты-ориентиры, а главное, имелась многомиллионная читательская аудитория, доминанта творческого начала при условии самовыражения являлась несомненной. Кристаллизация же, точнее выкристаллизовывание писательской иерархии, создание творческой литературной среды обеспечивалось, создавалось «равновесным» действием следующих факторов.
Непрерывная, длиной во всю творческую жизнь, литературная учеба, о чем уже сказано выше – это единственный путь от неясного еще осознания тяги к художественному творчеству до читательского признания. Отсюда и выработавшиеся «чины» писательской иерархии: начинающий, подающий надежды, способный, талантливый, самобытный, видный, признанный, выдающийся и вершина: гениальный; это о Пушкине и Достоевском; расширительно сюда включают Гоголя, Лермонтова (нераскрывшийся гений), Льва Толстого. Возможно так и о Бунине с Шолоховым сказать. И вовсе не по причине их «нобелизма»…
Если в девятнадцатом веке эта учеба являлась самообразовательной, то уже на рубеже веков она начинает становиться организованной: от Университета Шанявского, многочисленных в столицах литературных обществ, далее Института философии, литературы и искусства (ИФЛИ) до создания Литературного института.
Другой же фактор пути к профессионализму и стимулированию своего творчества – это то, что в среде литераторов просто называется «пробиться в печать». В отличии от житейского «выбиться в люди», здесь материальная составляющая практически отсутствует… по крайней мере на всем этапе достижения приемлемой степени литературной известности. Талант талантом, но имя завоевывается долго и обильным потом, напряжением воли и терпения. Перечитайте «Мартина Идена» Джека Лондона! Сам вспоминаю многолетнюю переписку с редакциями литературных журналов… понятно, речь идет о советских временах. Но именно такой нелегкий путь к печатанию и создавал творческий, профессиональный писательский круг, становясь непреодолимой преградой для бесталанных и ленящихся учиться литературному делу.
♦ Все рухнуло одномоментно вместе с нашей советской страной. Если суровый в своих назиданиях Лев Николаевич как-то сказал, что изобретение Гутенбергом книгопечатания открыло дорогу невежеству, то другой Лев, только Давидович, стало быть Троцкий, великолепный литературный публицист (см. «Литература и революция», 1923), поправил Толстого, что-де невежество – слишком сильно сказано, а вот печатание книг открыло путь дилетантизму – это в точку!
… Здесь особо гадать не требуется: речь идет о переходе от государственной монополии на печатное слово к «самиздату за наличные». Такая платная печать, хотя бы и крохотными тиражами, вмиг разрушила русскую литературу, а именно: (а) нивелировала ее качество до стенгазетного уровня; (б) упразднила само понятие авторитета-ориентира; (в) ликвидировала устремленность к литературной учебе; (г) привнесло характер «кружковщины». Перечисление можно продолжить на весь алфавит, что называется, от альфы до омеги. Все по Льву Давидовичу и даже по Льву Николаевичу… Изящная словесность во многом приблизилась к образцу того незадачливого сочинителя, что выведен персонажем в «Бедных людях» Ф.М. Достоевского (грешно смеяться, конечно):
«– Владимир!.. – шептала в упоении графиня. Грудь ее вздымалась, щеки ее багровели, очи горели…
Новый, ужасный брак был свершен! … Через полчаса старый граф вошел в будуар жены своей.
– А что, душенька, не приказать ли для дорогого гостя самоварчик поставить? – сказал он, потрепав жену по щеке».
Самое угнетающее: даже добротно написанная вещь, литературно грамотно, с классической композицией, или наоборот, новаторски, не закрепится в памяти читающего, что есть крах всех надежд и ожиданий писателя. А почему? – просто нет эффекта повторения – запоминания автора, его индивидуальной творческой манеры, ибо нет уже всероссийского литературного процесса, не на чем глазу остановиться в россыпи малотиражных изданий. Все одно, что разглядеть жемчужину, выброшенную морской волной на галечный пляж.
… Вспоминаются строки из книги литературных очерков известного писателя (вроде как Телешов, хотя фамилия здесь роли не играет) о некогда испытанном им чувстве узнавания. Читал он как-то книгу Гарина-Михайловского, «нивского» издания, в переплете из выпусков «бесплатного приложения». Писатель этот – добротный, классик «второго ряда», читать его одно удовольствие (уже от себя вставляю), особенно теплым летним вечером или зимним в тепло натопленной комнате, под мягким светом торшера, в тишине, а еще после ужина с «разгонной» стопкой… Словом, автор литературных воспоминаний, еще только собирающийся посвятить себя служению писательской музе, читал в молодые годы книгу Гарина–Михайловского (помните? о детстве, учебе в гимназии, начале творческой жизни), как вдруг что-то заставило его вздрогнуть, посерьезнеть. Что-то новое предстало на страницах, хотя бы сюжет и продолжал развиваться в той же социальной среде, в кругу общения примерно тех же людей. Слова те же, чувства схожие, но что-то иное читал он, заставившее внутренне напрячься, а на душе появился осадок того беспокойства, что посещает человека, когда он читает книгу, равно смотрит спектакль или кинофильм, когда по ходу развития сюжета все нарастает и нарастает напряженность, явно не обещающая пресловутого «хэппи энда».
… И только встретив имя Настасьи Филипповны, сообразил: переплетный мастеровой по ошибке в блок тетрадей (типографский термин: свернутый в формат страницы печатный лист) книги Гарина–Михайловского вложил тетрадку из «Идиота»! Далее автор воспоминаний замечает, что невозможно хотя бы по отрывочному тексту, даже по абзацу не различить хорошего, талантливого писателя и литературного гения.
Надеемся, что подобной иллюстрацией мы не отклонились от темы очерка.
♦ Тема же эта подводит к нынешнему определению сущности писательства и носителя этого славного в прошлом, а сейчас крайне неопределенного занятия. В двух словах его не дашь, потому позволим себе «попросторнее» изъясниться – в смысле каноническом конечно: словам тесно, а мыслям просторно…
Современный писатель, а де-факто «стучатель по клавишам» (пока речевой ввод в компьютер еще не совершен; с правилами орфографии и синтаксиса не все так гладко), – это атавизм прошлого, хотя бы недавнего, почти уже артефакт. Как, например, исчезающие наличные деньги в кармане и в домашней заначке. Их виртуализировали пластиковые карточки. Тем самым банки, распевая в телерекламе сладкие песенки на американо-нижегородском диалекте про мифический кешбэк (… вашу онлайн), выполнили свою сверхзадачу: весь денежный социумно-гражданский оборот взяли в свои руки беспроцентно! И оруэлловский Старший Брат доволен: вся, самая мелочная, финансовая жизнь его подопечных под полным контролем. Кроме киберворов, разумеется. Им ведь тоже надо жить! На то и щука, чтобы карась не дремал…
Писатель и деньги (наличные и виртуальные) суть понятия ныне несовместимые. Сближают их только категории уходящего, то есть атавизма и артефакта.
Писатель, в устоявшемся доселе понятии, сейчас выключен из активной социумной жизни, невостребован по самому определению этой жизни, в которой усилиями доминирующего глобализма творческое аналоговое мышление семимильными шагами замещается утилитарным цифровым. Умозамещение и цифрофрения суть содержание процесса расчеловечивания. Писатель же, как носитель творческого начала, рассматривается Великим глобализатором (Старшим Братом в романе «1984» Дж. Оруэлла) если не как прямой враг – слишком велика честь на этакую козявку усилия затрачивать! – то как щепка на паркетном полу: излишняя она здесь и антураж портит. Словом, не комильфо.
Так чем же, какой надеждой живет нынешний художник слова? – без читательской аудитории и отлученный от СМИ во всех ее широких понятиях: от печатного станка типографии (платный тираж в сто экземпляров – кот наплакал!) до так называемого «общественного мнения», в котором само слово «писатель» твердо ассоциируется с ушедшими эпохами.
Ладно, литератор прежней закалки, успевший вступить неуверенно, хотя бы одной ногой, на стезю изящной словесности. Все же он успел разогнаться и остановиться не может: сладкая зараза творческого позыва столь мощно-инерционна, что сравниться может разве что с раскрученным колесом, помещенным в вакуумную среду…
Сложнее понять пишущего в охотку (это как фотоохота – без «вещественной» добычи… то есть без гонорара) из нынешних возрастных генераций. Но – присмотрелся, хотя бы как главред литературного журнала. Опять же современных авторов читаю – и не только по этой (общественной) должности.
Надо исходить из аксиомы: писатель страшно одинок в своем творчестве (Ильф с Петровым, братья Гонкуры и Стругацкие здесь не указ). Одиночество – это не норма социального бытия человека, даже персонаж Дюма в одиночной камере замка Иф нашел себе собеседника… Поэтому творящий сам-один в своих мыслях писатель восстанавливает свою социумную принадлежность в виртуальном мире: через свое сочинительство он общается с людьми, своими читателями, заочно, опосредовано через печатное слово. Он не знает: сколько их будет, читателей? Останется ли написанное им во врмени… хотябы пока еще ощущается запах типографской краски при перелистывании страниц свежеотпечатанной книги? Понятно, что типографская краска – это лишь образ; высокая печать сейчас используется только для тиражирования на веленевой бумаге – чтобы на века хранения! – особо значимых изданий… А офсет и лазерная печать без запаха.
А если даже знает, сейчас и вовсе уверен, что исчезают последние его читатели (см. выше), то остается … только потребность самовыражения, почти что выработанный социальной эволюцией инстинкт. Побочное явление литературы без читателей и официального статуса – расширение писательской среды, в которой редкие природные таланты полностью затенены любительской массой. Настолько обширной, что намного превышают выработанные социальные (процентные) нормы. Сочувственно относясь к обеим категориям, все же позволим себе усомниться в их суммарной творческой продуктивности. «Кадры решают все» и в литературе, но если под кадрами привычно понимать писателей профессиональных с иерархией дарований и наличием авторитетов-ориентиров, то их отсутствие делает массу «безлошадной».
Ладно в художественной прозе. Здесь можно обойтись и без литературной (само)учебы, если ограничиться писанием коротких рассказов-зарисовок. Можно «вытянуть» и литературную публицистику, где акцент ставится на самодовлеющую цель, которая если и «не оправдывает средства», но сглаживает шероховатость сюжетно-композиционного построения. Но вот драматургии противопоказано любительство! – строжайшие формальные правила построения пьесы и насыщенная образность представления при их написании (драматург в процессе работы «на равных» совмещает в себе создателя произведения и его зрителя-слушателя!) требуют профессионализма.
Самая невообразимая ситуация в нынешней поэзии. Во-первых и в основных, поэтом можно только родиться; это тоже аксиома – потребно особое (игра природы) индивидуальное строение правого полушария головного мозга; так сказать, особое сплетение аксонов и синапсов – это шутка, но со смыслом! Во-вторых, даже верлибр, белый стих, не говоря уже о сонетных и александрийских формах, подчинены строгим формам стихосложения, так что, «не мог он ямба от хорея, как мы не бились, отличить» – это крепкий замок на двери в страну поэзии. Наконец, образы и тропы поэзии, их совершенствование, выработка индивидуальной манеры – все это в творческом единении требуют неустанной, изнуряющей работы; опять же длиной в поэтическую жизнь. С сомнением относясь к словам (тогда молодого) Евтушенко «до тридцати поэтом быть почетно, но срам кромешный после тридцати» (сам он сочинял до восьмого десятка…), в то же время осторожно относимся и к тем, у кого поэтическая муза проявляется во второй и более поздней половине возраста. Вообще-то говоря, о любительстве все уже сказал Хлестаков: «Я ведь тоже разные водевильчики… И все случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец!» И тут же в один вечер, кажется, все написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях».
… А уж если «легкости» нет, то и вовсе обидно: трудишься, потеешь и все напрасно. А сейчас все вокруг «поэты», видно массово в головах перепуталось; справедливую присказку «в юности все поэты» переиначили на другой лад: «Попашешь, попашешь, попишешь стихи», – но, в отличии от первоисточника, с логическим ударением на слове «попашешь»… Вроде бы смешно, пусть люди от безысходности унылой и серой оцифрованной жизни хоть малую отраду в стихосложении находят, хотя бы и слабо рифму чувствуют? Все пристойнее, чем водяру на кухне глушить… Ведь и раньше малоумело рифмовали? Верно, рифмовали, но в лучшем случае цеховой стенгазетой жизнь любительских стихов завершалась. А сейчас? – у меня, дескать, две поэтические книжки изданы, примай, дьявол, в писательскую союзу! И «примают». Итак, высшая степень дилетантизма с членским билетом. Не в обиду будет сказано.
А раз вспомнил про сорокаградусную «злодейку с зеленой наклейкой», то не удержусь привести отрывок из недавно услышанного по радио рассказа для детей современной сочинительницы: «… От вошедшего в помещение <имярек> неопрятно одетого мужчины отвратительно пахло дешевым алкоголем…» Отвлекаясь от сомнительной «детскости» такого повествования, выделим слово алкоголь, как иллюстрацию к нынешнему (насильственному) оскудеванию русского языка. Любой, даже записной трезвенник, заметит: доселе чисто «химическое» слово это, ранее употреблявшееся лишь в специальной литературе, сейчас полностью вытеснило – в названиях магазинов, в «казенной» и обыденной речи и вообще везде! – былое разнообразие: от арго «кирка», «кирять» и пр. до улично-бытового «выпивка», «червивка» и «чернила», «плодово-выгодное», та же «водяра», и расхожего «поллитровка» с «четвертинкой» (в горбачевщину «раиска» – в бутылочках 0,33 литра из-под пепси-колы), «огнетушитель» – это 0,71. Казенное «спиртное» тож.
Усмехнулся горестно, а в голове объявилось продолжение того сермяжно-детского рассказишки: «… К восторгу детворы, особенно молодых мам, следом в помещение <имярек> легкой походкой вошел молодой стройный красавец с бородкой а ля Абрамович, в дорогом английском костюме, от которого ласковой волной исходил аромат элитного алкоголя. Молодые мамы инстинктивно завели за спины руки с обручальными кольцами на безымянном пальце».
Поздравил сам себя с титлом современного детского писателя и принял стопку «Джонни Уокера» двенадцатилетней выдержки, пожалев о неимении британского прикида…
♦ Продолжим, как тот присяжный поверенный у Ильфа и Петрова, в подражание которому Остап Бендер, раз уцепившись за знаковое слово, так и тянет его в течении всего судебного процесса. Понятно, у нас это упомянутая выше «кирка». Вспомнилось хрестоматийное, из школьного учебника, как академик Павлов ставил на себе эксперимент: выпил полбутылки рома и стал записывать свои мысли. Наутро пробовал прочитать и… разобрал только первые слова. Попозже школьных лет, уже студиозусом, довелось приватно беседовать с пожилым отставным военврачом, что в свое время слушал лекции Павлова, в частности, рассказывавшего о знаменитом эксперименте. И здесь я расширил школьные познания. По словам Павлова, выпил он не полубутылку, а полуштоф рома, то есть шестьсот миллилитров. Ай да Иван Петрович, ай да Нобелевский лауреат – нехило для академика! Еще в школьном учебнике опущены слова экспериментатора, что вслед за последним стаканом в голове явственно зазвучали на контрах две музы́ки: яростно-веселый цыганский хор из «Яра» и что-то навроде моцартовского реквиема. Великий физиолог объяснил такое сочетание раздвоением сознания в состоянии опьянения. Еще он посетовал, что по хроническому безденежью в молодости смог купить только дешевый ямайский ром, а не высококачественный кубинский, что красовался на витрине елисеевского магазина.
… Вот и у нас к окончанию этого опуса, даже без употребления рома (хотя бы магазин сети «Красное & белое» в торце родного дома разместился), этакая рассеянная двоякость мысли в голове образовалась. С одной стороны, радует причастность к сочинительству широких масс, преимущественно пенсионеров и домохозяек: какое-никакое, но ведь элементарное творчество? Ведь тянутся же люди к безденежному занятию – и это в подавляюще-частнособственническое время! Но с другой – обидно присутствовать при закате самого социального института словесного творчества.
Глобализация, расстудыть ее в качель! – ей творчество ни к чему. «Правду ли говорят, будто ты можешь соединить отрезанную голову с туловищем?» – спрашивает персонаж древнеегипетского письменного памятника «Сказки сыновей фараона Хуфу». А это самое начало человеческой эпохи цивилизации и культуры! Если в современном status quo голову и туловище проассоциировать, соответственно, с художником слова и его читателями, неважно, почитателями или хулителями, а разъединение их признать почти что состоявшимся, то где тот волшебник-жрец, что вновь соединит их в единое целое?
Но жрецы давно ушли в небытие тьмы египетской, а социальная эволюция не повторяет пройденный путь, но допускает определенную цикличность в форме диалектической спирали Гегеля – Энгельса. То есть повторение на совершенно ином качественном уровне. Но последующие ходы эволюции человеку знать не дано.
* Алексей Яшин. Страна холода (2): Под опекой Арктогеи: Повесть (одиннадцатая книга рассказов Николая Андреяновича): Академия российской литературы.– М.: «Новые Витражи», 2021.– 409 с., ил. (Библиотека журнала «Приокские зори»). См. на сайте www.pz.tula.ru – Прим. авт.
* По правилам поступления в Литинститут советского времени такое образование являлось препятствием для обучения в нем, что, вообще говоря, объективно обусловлено. Но можно было и это обойти. – Прим. авт.
* Тогдашний чеченский писатель Зелимхан А.М. Яндарбиев окончил Высшие литературные курсы в 1989 году. Один из главарей чеченских террористов, одно время являлся И.О. президента Ичкерии. Побив горшки с Масхадовым, обосновался в Катаре, где организовал финансирование войны на Кавказе. Террорист по спискам ООН. Взорван в 2004 году в автомобиле. – Прим. авт.
* Глобализация есть один из начальных этапов биосферно-ноосферного перехода (по В.И. Вернадскому). Наша концепция такого перехода издагается в продолжающейся серии авторских монографий (на сегодняшний день издано 20 томов) под общим названием «Живая материя и феноменология ноосферы». Опубликованы в различных издательствах: «Астерион» (СПб), «Московский Парнас», URSS (Москва), «Триада» (Тверь), Изд-во ТулГУ и др. Размещены на различных научных сайтах. – Прим. авт.