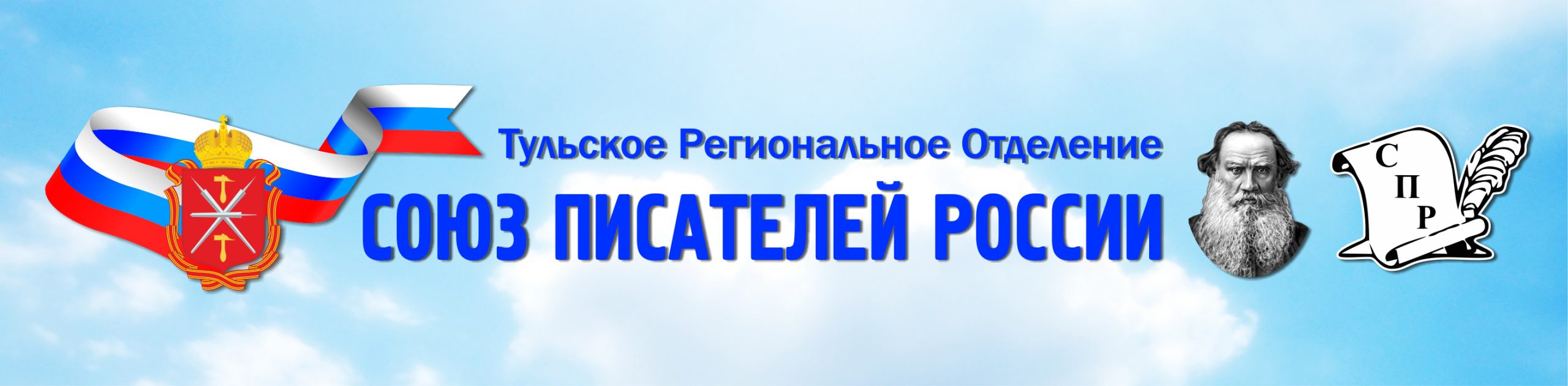…Первый класс сельской школы.
Белоснежная рубашка, только вчера купленная матерью в Сельпо, опрометчиво оставленная без защиты снятого пиджачка; гвалт большой перемены, напоминающий многократно увеличенное Броуновское движение и…
И столкновение с Нинкой Ткачёвой, моей соседкой по парте; вернее – не с ней, а с её огромной пластмассовой чернильницей.
Результат, ясное дело, оказался до безобразия предсказуем: рубашка от ворота до ремешка брюк – вся фиолетовая; слёзы на лице Нинки, размазанные испачканными ладонями, тоже фиолетовые.
В классе мгновенно устанавливается зловеще-звенящая тишина, нарушаемая всхлипываниями виновницы «торжества». Как же – испорчена рубашка сына самого директора школы. В ещё несмышлёных головах первоклашек возникают кошмарные видения наказания моей соседки – вплоть до исключения из школы.
Вместе со звонком на третий урок в класс входит моя мать – учитель математики старших классов, награждает меня увесистым подзатыльником – сам, мол, виноват, смотри куда летишь, – успокаивает уже рыдающую навзрыд Нинку, уводит её из класса.
Через долгих десяток минут в класс, спросив разрешение, входит улыбающаяся, умытая, причёсанная, с большой конфетой в руке моя соседка.
Со мной «разбор полётов» продолжался дома, в узком кругу. В последствии, что бы не происходило в классе, что бы не случилось – всегда оказывался виноватым сын самого директора школы – никакого спуска мне родители не давали…
…В нашем селе имелось две библиотеки: школьная и сельская в клубе. Если в школьную записался только с первого класса, то в сельскую стал ходить лет с пяти, беря по три четыре книги за один раз. Библиотекарши: и сельской, затем и школьной, принимая такое обилие книг, постоянно меня – не только меня, а всех детей – просили рассказать содержание прочитанного.
Как-то раз в зимний день несу в сельскую библиотеку пяток книг и с ужасом замечаю, что не могу внятно ни вспомнить, ни прочитать название одной книги. И так, и сяк – не могу. По буквам – не могу прочитать. Не складывается никак – вот будет позора-то если не назову названия книги, книжонки, по большому-то счёту.
Открываю дверь библиотеки, выкладываю на стол книги и… как молния:
– П-е-п-е!..
…За три года (пятый–шестой–седьмой) английский язык в общей сложности в нашем классе преподавали максимум полторы четверти. Никто не хотел менять город на наше село.
Нет, приезжало-то много молоденьких училок. Кого-то заманивали романтикой сельской жизни, кто-то искал сельских женихов (не припоминаю случая подобных свадеб); кто-то отрабатывал обязательную «минималку».
Из всех «англичанок» в памяти осталось только одна, оттрубив в пятом классе почти полную четверть. Вернее, в памяти остались её незабываемые уроки «английского» языка.
Бросив классный журнал на стол, не проверив наличие учеников (надо отдать должное – со второго её занятия обеспечивалось стопроцентное посещение; даже больные приползали на эти уроки), она (училка – забыл, забыл её ФИО) начинала рассказывать-пересказывать роман Александра Дюма «Граф Монре-Кристо».
А мы… мы разинув рты слушали – слышно как муха пролетит – приключения графа.
Закончив этот роман, училка начала новый (не помню какой), но не успела пересказать его до конца – уехала в Город, в город Мичуринск.
Надо отметить, что ни «Графа Монте-Кристо», ни второй книги в наших – сельской и школьной – библиотеках, естественно в наличии не предвиделись на долгие годы.
…В памяти всплывает зима: по Цельсию – ниже тридцати. Март пятьдесят третьего. Пятое число. Растерянные, осунувшиеся лица, красные флаги с черными лентами.
Мы (наша семья – отец, мать, сестра Татьяна и я) живём в деревне, вернее, в селе.
Село Ново-Тарбеево – в двадцати километрах западнее Мичуринска, на берегу реки Воронеж, в ту пору полноводной широкой реки.
Отец и мать – учителя. Окончили Мичуринский учительский институт. Мать (Макарова Татьяна Сергеевна) так всю жизнь и писала во всех анкетах в строке образование: «незаконченное высшее» (не среднее и не высшее), специальность – математика. Отец после учительского, в пятидесятом заочно окончил Тамбовский педагогический (что автоматически подразумевало на пиджаке ромбик высшего образования – «поплавок»); русский язык и литература.
Март пятьдесят третьего. Начало месяца. Утопающие в сугробах дома. По улицам только санные следы, укатавшие дорогу до асфальтовой твёрдости («асфальтовая твёрдость» – тогда в селе такого и понятия-то не было; это из нынешнего времени такие ассоциации). Электричества нет и в помине. Вода в колодцах. «Удобства» – во дворе. Радио проведут только через несколько лет. На всё село пять радиоприемников (громадные агрегаты с тяжелыми угольными батареями питания и антеннами на крышах; у нас был радиоприемник «Искра»).
Кто имел эти чудо-машины (по тем временам в сельской местности так оно было на самом деле): в сельсовете; в правлении колхоза (колхоз имени Ленина – середнячок-колхоз по всем показателям во все времена, но «железный» середнячок); в школе; у директора школы; у нас (отец в ту пору был уже завучем – вторым человеком в школьном табеле о рангах).
И у этих очагов культуры собрались все жители нашего села. Все!!! Даже женщины (сельские замордованные непосильным трудом бабы) с грудными младенцами. Все!!! Все внимали жутким, страшным словам диктора: «Умер Сталин»…
Умер Сталин…
И я этот день помню. Помню!!! Отчетливо помню этот день – было мне всего чуть больше пяти лет…
…Привезли в наш сельский клуб два кинофильма. Для детей (семичасовой сеанс) – советскую азербайджанскую музыкальную комедию «Аршин мал алан»; для взрослых (девятичасовой сеанс) – индийский фильм-драму «Бродяга», почему-то не для детей до шестнадцати лет.
На детском сеансе и тем более на взрослом на длинных зрительских скамейках на всех мест явно не хватало. Если детвора (часть зрителей) особенно не заморачиваясь, разместилась на полу клуба, то некоторые взрослые селяне приносили табуретки и стулья.
Как я, второклассник, не упрашивал мать и отца взять меня на вечерний, для взрослых, сеанс родители стояли стеной за нравственное воспитание старшего отпрыска. Да, по правде говоря, и контролёры на входе зря свой хлеб не ели.
Ах, как хотелось посмотреть этот индийский фильм, как хотелось. Но голь, тем более детская голь и в нашем селе на выдумки была мастерица. Усевшись перед первым рядом скамеек около самой сцены на пол, мы, особо продвинутые пацаны, перед последними кадрами «Аршина» по-пластунски проникли на сцену за экран. На клубной сцене в дальнем углу находился люк в подвал. И в этом подвале, согнувшись в три погибели (высота подсценного пространства не превышала шестидесяти-семидесяти сантиметров) мы, самые отчаянные, в половые щели смотрели что происходит на экране.
Естественно, мы ни хр… ничего не поняли. Тем более, не поняли, что же там было запрещённого для детей моложе шестнадцатилетнего возраста.
…В конце учебного года пошли четвероклассники с учительницей и пионервожатой на экскурсию с ночёвкой в Староказинский лесхоз за семь километров от родного села Ново-Тарбеево.
К конечному пункту назначения шли ни шатко, ни валко – пришли к обеду. Пока осматривали окрестности и лесозавод, купались в реке Воронеж, ужинали, незаметно наступила звёздная, безлунная ночь. И какой же четвероклассник уснёт в палатках вдали от дома, даже – под недремлющим оком учительницы и пионервожатой. Всю ночь из палаток слышалась возня, галдёж, с периодическим броуновским движением пионеров и пионерок.
В результате, проснувшись, опередив даже первых петухов, наскоро собравшись, будущие пятиклассники чуть ли не галопом припустили на «зимние» квартиры. Припусти так, что учительница и пионервожатая еле за ними поспевали. Ворвавшись в родные, такие уютные, дорогие сердцу дома, налету перехватив молока с коврижкой, все, как один, завалились досматривать не досмотренные в Лесхозе сны.
Тольки Краденову, моему другу детства, отец на досмотр снов отвёл каких-то минут двадцать-тридцать, заставив стеречь недавно отелившуюся корову с телёнком на близлежащем лугу. Пригнав на луг животных, выбрав им участок с самой сочной травой, сам Толян, присев на пригорке, сморённый утренним солнцем, моментально включился за досмотр лесхозовских снов.
Корова с телёнком, естественно, тут же отправились бродить по всему лугу, оставляя повсюду «блины» и «блинчики» от переработанной травы.
В это время – солнце почти в зените – купаться на речку (всё тот же – Воронеж) шла ватага старшеклассников. Видя расхристанное тело будущего пятиклассника, а рядом – те самые «свежеиспечённые» коровьи и телячьи лепёшки, не долго думая, забыв о купании, старшеклассники в ладони распластанных рук водрузили самые большие вышеуказанные лепёшки.
Ладно бы – это. Но, сорвав две травинки, экзекуторы садистски защекотали в ноздрях храпевшего пастуха. Хлоп – одна ладонь с коровьей лепёшкой размазалась по лицу у ничего не понимающего спросонья бедолаги-пастуха; хлоп – вторая ладонь повторила тот же маневр, что и первая.
У пастуха – слёзы вперемешку с остатками коровьих лепёшек, у окружающей ватаги – хохот на полсела.
…У каждого уважающего себя пацана имелась рогатка. Смастерил и я себе. Вышла, как бы сейчас сказали, – супер-пупер-перепупер.
Пострелял по банкам, пострелял по воробьям, пострелял…
Из-за соседского сарая «нарисовался» ровесник средней сестры Татьяны пятилетний Толян Грезнев. Не долго думая, прицелился и выстрелил в него.
Пулька – маленький камешек – угодила точно в лоб. Толян захныкал и убежал в свой дом. А я, со скребущими сердце кошками, с сельской ребятнёй отправился на речку.
Вечером, не сказав ни слова, мать, схватив меня за ухо, оттащила в дальнюю комнату. И… и стала меня охаживать ремнём с пряжкой куда ни попадя.
После этого, злосчастного случая у меня пропала на всю жизнь (несмотря на мои четверть века в рядах Советской армии) всякое влечение ко всякому и всяческому оружию.
Хотя, надо отдать должное инспекторские проверки по стрельбе из автомата всегда сдавал только на «отлично», стрельбу из пистолета – хуже…
…Школа. Двухэтажная деревянная сельская школа. В нашем наборе, наборе пятьдесят пятого года, было два первых класса и пять (пять!) десятых. По сорок и более человек в каждом классе. В нашу школу-десятилетку ходили учиться из пяти-шести соседних сёл и деревень, где были только четырех– и семилетки (в то время выпускными классами были седьмой и десятый). Это только печально знаменитый «кукурузник» влез и в образование своим грязным сапожищем – или ООНовским ботинком? – и сделал выпускными восьмой и одиннадцатый; я тоже попал под «раздачу» – единственный одиннадцатилетний выпуск в школе и «смерть фашизму» на вступительных экзаменах в институт, где конкурс среди школьников – восемнадцать с половиной человек! На одно место. Но что-то я отвлёкся…
Мне в первом классе труднее всего давалось чистописание (был и такой предмет) – нас учили писать без клякс и помарок, ровным каллиграфическим почерком, выводя каждую букву, да, что букву – каждую палочку, каждый крючочек несчётное количество раз. Кошмар! Адский труд! Чернила в чернильницах, обычно – непроливашках, зимой замерзали, а летом в эти чернильницы (у каждого обязательно непохожая на чернильницу соседа по парте) непостижимым образом попадали мухи; и если зазеваешься, не увидишь, что на острие пера вместе с чернилами на чистую, обычно только начатую тетрадь (за две копейки по двенадцать листов – в клетку, в линейку, в косую линейку), попадает эта муха – всё! – начинай переписывать заново. За кляксу даже не ставили оценок – за кляксу оценка была ниже не только «двойки», но и «кола».
Поэтому клякса каралась переписыванием всего измазанного. Ещё надо было следить, чтобы эта чернильница не перевернулась в портфеле – и пошла мода на мешочки под эти чернильницы, вроде кисетов (у девчонок, конечно, с вышивкой) для табака. И носили эти чернильницы в кисетах, привязанными в ручке портфеля (ни о каких ранцах, рюкзаках и тому подобное никто и вообразить даже не смел, не мог); и максимум, что грозило, при возможных потасовках (а как же без них – энергии-то во все времена в детском возрасте не меряно!) – это чернилами облитые мешочки. Не беда – переписывать ничего не нужно.
Со всеми потугами, со всеми напрягами больше «четверки» по чистописанию мне не светило. Первая моя учительница – Чеканова Любовь Ивановна, как мне сейчас кажется, ставила такую для меня завышенную отметку только из корпоративной солидарности. Но по другим предметам у меня стояли «железные пятерки», изредка – «четверки». Нет, никакого снисхождения к сыну директора школы не было и в помине. Как сын директора школы мог учиться плохо? В те далекие времена, в селе, это был бы, как модно сейчас выражаться, нонсенс. Не поняли бы такое состояние дел – двоечник-троечник сын директора – односельчане.
Простой пример. Если за всю учебу в школе (я в селе проучился до седьмого класса включительно) мать, преподававшая в нашем классе (с пятого по седьмой) математику, спрашивала меня только (!) тогда, когда я не был готов к уроку, не знал домашнего задания. Не выучил в силу объективных причин – прогулял вчера до позднего вечера. А кому, как не родной матери знать о всех делах и проказах сына. И только тогда она меня и спрашивала. И безжалостно ставила мне «двойку», за малейшую запинку, за малейшую описку (что-то ведь я знал – сын математички как-никак). Другим за такой ответ была обеспечена твердая «четверка», а за мой мне – «двойка». Исправлять эту «двойку» я мог не на следующем уроке (как обычно исправляли другие ученики), а только на контрольной работе, которые проводились, по-моему, раз в месяц. Не исправленная к концу четверти «двойка» по математике, автоматически убирала мою фотографию с пантеона лучших (отличников!) учеников школы. Поэтому с детства у меня такая тяга к математике и точным наукам (и поступал я вначале в Рязанский радиотехнический институт – но это уже другая история: всему свое время). Да, плюс ещё книги Перельмана (мы их выписывали через «Книгу – почтой»): «Занимательная математика», «Занимательная физика», в двух книгах, «Занимательная геометрия», «Занимательная механика» – их я осилил ещё до пятого класса.
Но математиком я не стал. А стал чуть-чуть писать, и сейчас чуть-чуть пишу. Хотя отец ни русский язык, ни литературу в нашем классе не преподавал. Но дома всегда писал стихи, отсылая их и печатая в газетах. И Маршаку писал. Не преподавал он мне азы литературы…
…Мать всегда (!), к каждому (!) уроку за всю свою педагогическую деятельность писала подробные планы уроков. Всегда! И кучи тетрадей. Кучищи! Монблан! Эверест! Тетрадей учеников – с домашними заданиями, с контрольными работами (к следующему уроку всё должны быть проверены, с разбором каждой ошибки). И не у одного класса, а трех-четырех. Каждый день! Отец никогда планов не писал, черкнёт пару строк – и готов к занятиям. Он, в основном, преподавал в вечерней школе (вечерняя школа – это после двух дневных смен, где занимались нормальные по возрасту ученики, по вечерам приходили те, кто не успел получить образование (семи – или десятилетки) в войну, в тяжелые послевоенные годы, т. е. простые советские колхозники разных возрастов (помните много – серийный фильм «Большая перемена»? Все точно так же происходило – только со скидкой на время и место). И он там тоже преподавал. На уроках его (как говорили ученики) слышно было, как летают мухи по классу, как вибрируют стекла в окнах от малейшего ветерка. Как жаль, что мне не пришлось учиться в его классе, хотя, по большому (!) счёту вся его жизнь для меня была уроком. Отца в школе не боялись. Нет! Мать боялись – на её уроках тоже стояла тишина. Но… Другая тишина. Отца не боялись. Директора школы не боялись. Что такое директор школы в большом селе? В середине двадцатого века? Третий человек в сельской иерархии: председатель сельсовета, председатель колхоза, директор школы. А учитывая его военное прошлое, его орден, на всю округу всего два Красных Знамени, его высшее образование (по-моему, в те времена – только одно на весь колхоз) плюс его постоянное депутатство в Сельском Совете – непререкаемый авторитет среди сельчан. Со всеми бедами и радостями шли к нему со всего села. Занесет кого-то судьба из его выпускников с заоблачных высот (а для села того времени – работа в Москве, служба в армии – большая высота!) в родные просторы, обязательно приходят к отцу.
И что характерно (по своей природе дети жестоки, безкомпромиссны в своих суждениях, их на мякине не проведешь), в школе у всех (до самого последнего сторожа) были клички, дразнилки, устный фольклор, своей безжалостной точностью и меткостью, характеризующих каждого. В письменном виде это творчество появлялось везде (на стенах туалетов – естественно, удобства, как и во всем селе, на улице), на партах, на деревьях, на стенах классов и коридоров.
Ещё раз повторю: у всех учителей (у всех!) были клички. У отца, за всю его педагогическую деятельность никогда (н-и-к-о-г-д-а!!!) не было кличек. У него одного на всю школу. А может – и на весь район…
…Не знаю, как в других школах, но в нашей сельской десятилетке на втором этаже имелась «тёмная» комната – плотные чёрные шторы наглухо закрывали окна, не пропуская ни кванта света. Да и стены комнаты были покрашены чёрной краской. В этой комнате хранились две малокалиберные винтовки, патроны к ним и ещё, что осталось в памяти – человеческий скелет. Конечно, в этой, так называемой, «секретной» комнате хранились и другие «интересные» вещи, но я запомнил только скелет, в дошкольном возрасте наводящий на меня суеверный страх, и винтовки. Из винтовок мы стреляли в школьном пятидесятиметровом тире, выкопанном старшеклассниками, а скелет… Скелет, я не помню, чтобы его выносили из этой комнаты.
Да, ладно, Бог с ним с этим скелетом – в одно прекрасное время, вернее, в одну, совсем не прекрасную, весеннюю ночь эти винтовки из той самой «тёмной» комнаты своровали, выкрали, стащили.
С утра не только в школе, но и во всём селе – переполох: кто и главное, зачем украл эти винтовки. Милицейские сыщики со своим Джульбарсом, в один сек прибывшие из Мичуринска, весь световой день рыскали по селу, естественно, с нулевым результатом. Покончив с этим неблагодарным делом, они укатили писать протоколы.
Прошла неделя, вторая, третья…
Небольшое пояснение.
В нашем селе крестьяне обычно сажали на своём огороде (40 соток, а то и больше) картошку и подсолнечник. Кто-то ещё выращивал табак (а не махорку, как «знатоки» в некоторых фильмах называют это растение), кто-то – лук, кто-то – чеснок. Кстати, за луком к нам приезжали на грузовиках аж (!) из самого Красноярска.
Так, вот, как проходила уборочная подсолнечника на своём огороде: шляпка срезалась серпом, оставшийся стебель наискось укорачивался тем же серпом и на оставшийся остроконечный отросток (коренюшка – на нашем сельском диалекте) насаживалась шляпка подсолнуха для просушки.
По прошествии некоторого времени (два–три–четыре дня) шляпки собирались, обмолачивались, сушились – и семечки, большие серые семечки – оказывались готовы для продажи в Рязани и Москве, куда мешками возили мои земляки.
Высушенные шляпки зимой, предварительно вымоченные, шли на корм коровам, овцам и козам. Собранные коренюшки собирались с огорода, корни отряхивались от земли и всё складировалось на кромке участка для дальнейшего (естественно, высушенные за осень и зиму) применения, как хорошее топливо для русской печи.
Теперь пора вернуться и к винтовкам. Тётя Дуня, проживающая в крайнем доме перед сельским клубом очередной раз и пошла за своими коренюшками для печи. Взяла охапку, взяла другую… и чуть в обморок не упала: одна винтовка с надпиленным стволом, вторая – в виде обреза…
…Кроме коренюшек печи у нас в селе топили «шишками», топляками, дровами и торфом, позже стали топить каменным углём.
«Шишки» – собранные граблями в сосновом лесу сами сухие шишки и сухие иголки. Всей семьёй собирали такое топливо и всей семьёй осуществляли погрузку на телегу. Для этого по периметру телеги крепили трёхметровые слеги (стволы деревьев диаметром десяти-пятнадцати сантиметров), «обвязывали» их ветками потоньше, и это, подобие огромной корзины набивали, собранными ранее «шишками». Незаменимое топливо для самовара и русской печи, каковые имелись в каждой крестьянской семье.
Топляки – чёрные как смоль и твёрдые как сталь огромные стволы деревьев «доисторических времён» (иногда – более метра в диаметре и длинной до десяти метров), обнажённые после ежегодного половодья, откапывали по берегам реки, ручьёв и болот. Кто первым увидел такой топляк, тому он и доставался; никто больше на него не претендовал. Топляки откапывали порой всё лето, но дрова из него (топляка) получались, что твой антрацит.
Дрова – это, естественно, сухие деревья и ветки из леса, расположенного километрах в трёх от села. С лесником расплачивались «жидким» советским твёрдым рублём, эквивалентному нынешнему «жидкому» доллару.
Торф – на опушке леса раскинулось огромное торфяное болото, на котором работала большая бригада, добывающая топливо в колхозные и сельские учреждения (сельский совет, школа, клуб, медицинский пункт, библиотека, правление колхоза и другие постройки). Селяне, в том числе и мы, также топили печку торфом. Привезут, бывало, машину-вторую торфа, выгрузят, а ты давай, только успевай раскладывать кирпичики сырца в «египетские» пирамиды для просушки.
Через пару недель высушенный торф переносился в сарай – семья к зиме готова.
Всему приходит конец, иссякло и наше торфяное болото, но цивилизация двигалась и в наше село: печки стали топить каменным углем, привозимым из Мичуринска. Вначале разжигали печку бумагой и лучинами, затем подбрасывали немного дров и, в разгоревшиеся дрова, кидали уголь. Тепло, уютно. Только вот от сгоревшего угля, в отличие от «шишек», дров и торфа, оставалось много шлака. Если зола шла на подкормку своего приусадебного участка, то шлак от угля использовался в качестве твёрдого «покрытия» сельских дорог и тротуаров…
…Все выборы, начиная от местных и заканчивая в Верховный Совет СССР проходили в школе. Председателем сельского изберкома автоматически становился директор школы, то есть мой отец.
Как и в наше время, день перед выборами школьники не учились – классы школы готовились к завтрашним мероприятиям. Лучшие пионеры школы в этот день тренировались в приветствии голосующих, салютуя им пионерским приветствием, у празднично убранных урн.
В актовом зале (он же – зал для занятия физкультурой) проходили последние репетиции предстоящего концерта школьной художественной самодеятельности.
В день выборов отец – председатель комиссии – уходил из дома (до школы – сто метров) в пять утра и приходил домой на следующее утро тоже в пять часов.
С шести утра, присланные из колхозной конюшни пять-шесть санных экипажей, под залихватский свист возничих и истошный лай сельских собак, представители изберкома – обычно ученики десятого класса – начинали развозить миниатюрные опечатанные урны и бюллетени для голосования больным и престарелым сельчанам. К десяти часам собирались пионеры-активисты, попарно – пионер и пионерка – на пятнадцать-двадцать минут становились по стойке «смирно!» с обеих сторон от урны и, при подходе голосующих, приветствовали поднятием правой руки перед красной пилоткой на голове.
К двенадцати часам собиралось большинство голосующих – тогда и начинался для них концерт. Часам к двум многие колхозники, изрядно отметив праздник по старой русской традиции, под звуки нескольких гармошек орали на всё село частушки-прибаутки. Под вечер всё это выборное мероприятие оканчивалась – проголосовало почти всё население колхоза (почти 100%), но урны с бюллетенями – и стационарная и передвижные – вскрывались ровно в двадцать два часа для подсчёта «за» и «против».
Подсчитывали до утренних петухов…
…Цирк!.. Цирк!!!… Цирк!!!
Весной пятьдесят девятого, перед самым разливом рек, речушек, ручейков (половодье, паводок – для сельчан ежегодное стихийное бедствие, изоляция от города, от железных дорог), в Мичуринск приехал цирк-шапито. По книгам, по кинофильмам мы знали о цирке, но в «живую» в упор его никто не видел.
Мать достала (!) (и в те времена тоже что-то «доставали», «дефицит», одним словом) билеты в цирк для своего класса (она была классным руководителем 5 «А») и для меня, естественно, примкнувшего третьеклассника нашёлся один билет.
Добираться на машине до Мичуринска (двадцать километров по непролазной чернозёмной распутице) – верх безумия. Да, и не ходили в это время никакие машины по нашему большаку; пешком эти же двадцать километров – тоже нереально. Выбрали альтернативный вариант: пешком десять километров (два часа взрослому по летней твердой дороге) до железнодорожной станции Никольское (на ветке Мичуринск–Грязи) и далее, на пригородном поезде до конечной станции.
Энтузиазма – через край. Сил у всех – хоть отбавляй. Остатки сна (а уходили очень ранним утром) давно улетучились. Меня и девчонок по очереди везут на телеге (школа для такого неслыханного и грандиозного – впервые! – предприятия выделила гужевой транспорт: Константина с телегой и конюха Баева Алексея Тихоновича). Все рвались, как в бой, как в штыковую атаку.
Д-а-ё-ш-ь!..
Всё было рассчитано по минутам. Но, как обычно, как всегда, у нас, у русских гладко бывает только на бумаге… А овраги? Переполненные грязевым месивом? А затопленные мостики через них?
Опоздали мы на пригородный поезд. Увидели только огоньки последнего вагона за поворотом. Это – крах! До Мичуринска, по шпалам больше десяти километров. И силенок уже нет. И следующий пригородный поезд через полчаса после начала циркового спектакля. Крах!!!
Пацаны притихли. Девчонки рыдали во весь голос. Про меня забыли. Мать куда-то пропала. Только Константин невозмутимо жевал сено, да конюх курил огромную самокрутку.
…И совершилось чудо (не только в цирке совершаются чудеса): через пятнадцать-двадцать минут (целая вечность! и более) к перрону пропыхтел паровоз («Овечка») с одним прицепным вагоном.
В Мичуринске, от станции до базарной площади, где возвышалось это неземное чудо, это загадочное волшебство, это великолепие из мира Буратино и Мальвины, мы неслись как полоумные, как шайка грязных, мятых маленьких разбойников и… успели. Успели к третьему звонку.
Разговоров о цирке хватило на целый год. И потом, уже взрослыми, уже обремененные детьми и внуками, мы, участники той легендарной «Челюскинской экспедиции», первым делом вспоминаем о том (о том!) цирке. О волшебстве нашего детства…
…Нашу классную руководительницу Недобежкину Клавдию Васильевну с какой-то болезнью положили в Лавровскую участковую больницу, что от нашего села в пяти-шести километрах. Собрав «передачку», на велосипедах четверо шестиклассников попылили через лес к нашей учительнице. Где нам показали от ворот поворот – час назад выздоровевшую Клавдию Васильевну выписали из больницы.
Посоветовавшись, вы поехали на своих великах к ней домой – не съедать же и не выбрасывать наши скромные подарки, главное-то – участие, забота и внимание.
Лучше бы мы не ездили к ней домой.
У четы Недобежкиных (дружили семьями они и мои родители) была дочь, наша ровесница, больная какой-то непонятной нам, пацанам, психической болезнью. Передав нехитрый скарб Клавдии Васильевне, мы разом вздрогнули от нечеловеческого крика из соседней комнаты. Бедная учительница бросилась к дочери, а крики всё усиливались, переходя в жуткие завывания, а нас… нас раздирал неудержимый смех. Не попрощавшись, мы пулей вылетели из дома, мигом оседлали велосипеды и помчались по своим домам.
Не сговариваясь, мы об услышанном и увиденном никому не думали и рассказывать. На первом же уроке по биологии – предмет нашей классной руководительницы – Клавдия Васильевна, собрав нас извинилась за вчерашнее. Мы, естественно, покраснев но корней волос, также попросили у неё прощения.