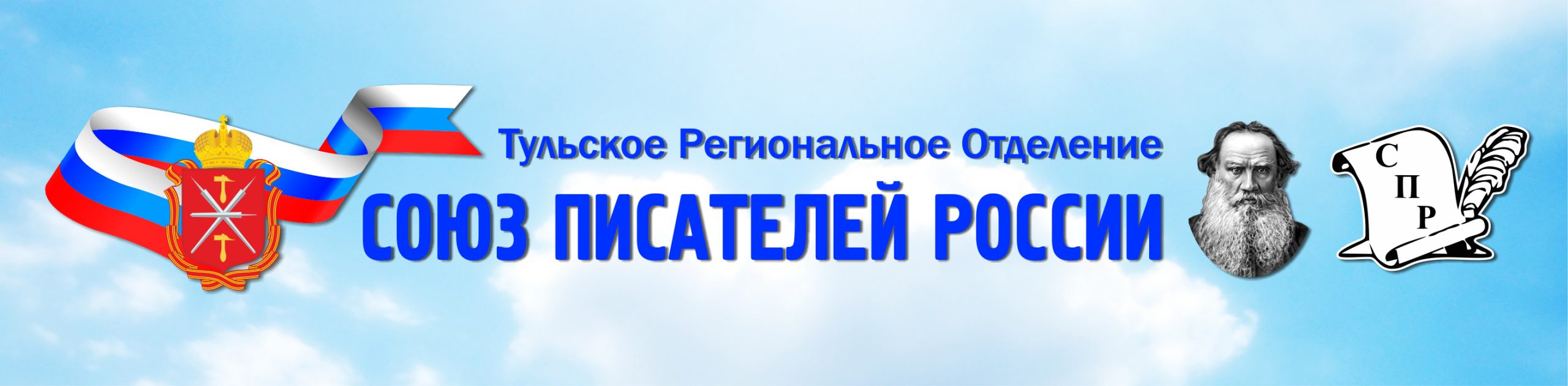«Чтобы отвлекать людей от серьезных размышлений, чтобы отводить им глаза от крупных и мелких нелепостей жизни, чтобы скрывать от них насущные потребности века и народа, — писатель должен уводить своих читателей в крошечный мирок чисто личных радостей и чисто личных огорчений; он должен рисовать им миловидные картинки любовных томлений и любовного восторга; он должен обставлять свои рассказцы очаровательными описаниями лунных ночей, летних вечеров, страстных замираний и роскошных бюстов; и при этом — самое главное — он должен тщательно маскировать от читателя ту неразрывную связь, которая существует между участью отдельной личности и положением целого общества. Если все эти условия будут соблюдены, то простодушный читатель разнежится, замечтается и поверит хитрому усыпителю, что человек прежде всего должен отыскать себе родственную душу, а потом, в течение всей своей жизни, упиваться вместе с нею благоуханием цветов, пением соловья, восходом солнца и блеском луны. Разумеется, один прием такого наркотического вещества усыпляет и расслабляет человека не надолго, но когда приемы быстро следуют один за другим, когда вся литература переполнена гашишем платонических и анакреонтических сладостей, когда ниоткуда нет отпора этим пошлостям, тогда самые здоровые головы тупеют и теряют способность мыслить».
Д.И.Писарев «Прогулки по садам российской словесности».
Во времена Дмитрия Ивановича прогулки по упомянутым садам вполне могли приносить некоторые удовлетворения придирчивому глазу и неспокойной душе, ибо было на что посмотреть и чем восхититься. За полтора века сады российской словесности, лишённые заботливой руки садовника, стали представлять из себя чащобы Кудеяровских времён, ступать в которые небезопасно. Из-под клыкастой коряги верлибра полоснёт гадюка, а из трухлявого пенёчка хокку обязательно выползет что-нибудь, может быть, менее ядовитое, но обязательно кусачее.
Вменяемый садовник должен быть безжалостным, обихаживая участок, иначе всяческие плющи и короеды сведут на нет все его усилия. Но напор читателя и критика отчего-то воспринимается в пишущей среде как нечто непозволительное, грубое, даже неуважительное по отношению к авторам, и в этом нет ничего странного. Более странным было бы взаимопонимание между теми самыми плющами-короедами и садовником.
Сантименты и реверансы хороши в дипломатии для достижения политических целей, а в литературе цели находятся в иной плоскости, и подобными методами достигнуть их невозможно.
Пишущий дурно мягкость замечаний обязательно воспринимает как сопутствующее недоразумение, а в особых, не поддающихся лечению случаях — как неправомерные нападки, проистекающие из зависти или неспособности чужого ума оценить подлинное значение «шедевра».
Писатели, думающие, будто их творения представляют художественную ценность, резко отличаются от писателей, знающих о ценности своих произведений. И, если первые в конце концов начинают страдать уверенностью в своём даре благодаря неспособности ума оценивать критически собственные произведения, то вторые никогда не полагаются только на собственный ум, каким бы изощрённым он не был, а всегда рассматривают свои творения как бы со стороны, пробуя на вкус и на цвет всё написанное предполагаемыми чувствами предполагаемого читателя.
Никому не интересно, как писатель видит мир. Читателю интересно увидеть свой, созвучный душевному настрою, и потому ему нет дела до душевных терзаний автора — ему важнее пережить свои.
Рождённый на надрыве или, как модно говорить, на разрыве аорты стих способен горячей волной толкнуть, а где-то и опрокинуть читателя, но затем схлынув, может и не оставить ни малейшего воспоминания о себе. Чувства важны для писателя лишь до момента осмысления того, что он хочет написать, что сказать. Если затем не вступают в действие логика сопряжения слов и химическое соприкосновение растворов ума и таланта, творение не будет представлять ценности, кроме как для самого автора.
Рассудочный, безпощадно отточенный стих входит в сердце читателя стилетом и остаётся там навсегда, и вытащить его не находится сил и желания.
Никчёмному, невыразительному стиху легко приклеить звание душевного. Это вроде как бы извиняет его, даёт право автору оспорить несостоятельность, а часто и безграмотность сотворённого.
Стихотворения, написанные душой, существуют не в природе, а в неустроенных мозгах некоторых поэтов. Душа, чувства дают толчок уму, а дальше, как это ни больно слышать добровольным узникам раненых душ, берётся за дело он, вылавливая в эфире согласно накопленному лексикону нужные слова и выстраивая их в единственно возможные для каждого случая порядки. И стоит ему нащупать безукоризненную связь цепочки слов, тотчас приходит упоение восторгом от процесса — и это называется вдохновением.
Любовь и кровь можно рифмовать до безконечности — и всё время получать настоящие произведения искусства, как и не получать их вовсе.
Существование поэта в отрыве от Вселенского сегодня толкает его во вчерашние переживания, должные удерживать его в творческой парадигме. Боязнь неустроенности сейчас не даёт поэту смотреть в завтра, а страх потерять хоть какое-то благополучие и устроенность в этой жизни запрещает выражать недовольство властью. Отсюда и начинаются пасторали, вечера чайного цвета, берёзы и слёзы — всё, чем можно подменить настоящее состояние действительности, не лишаясь при этом иллюзии причастности к чему-то большему, нежели скудный мирок автора.
При этом не стоит забывать о принципиальных отличиях мужской и женской поэзии
Смешно читать философские измышления досужей матроны, как и противно наблюдать приторные стиходвижения любовной лирики мужчины.
Сравнивать разнополую поэзию придумали существа среднего пола, коих развелось, особенно в мире культуры, сверх допустимого.
Никому не приходит в голову свести в одном турнире, например, женскую и мужскую сборные по хоккею. Зрелище было бы не занимательное, а непотребное.
Если женщина склонна писать о любви, сообразуясь с предыдущими опытами, проецируя всё на себя, то мужчина, отталкиваясь от своего опыта, призван разгонять это чувство до философских осмыслений вообще, пользуя его в качестве разбега перед последующим прыжком в области неизвестные, могущие лежать уже совсем в иной плоскости совершенно нечувственных осязаний.
Стоит пойти дальше, как явственней становится понимание того, что вообще и никогда любого поэта любого пола нельзя сравнивать с кем-либо.
Великий русский поэт Н.А.Некрасов не может соперничать с А.С.Пушкиным не потому, что менее талантлив, а потому, что страдающее христианство его стихов и не должно соперничать с буйным язычеством произведений Пушкина.
Один упивался былинной мощью Руси, другой с надеждой вглядывался в грядущее через мерзость царского режима.
Один — великий мастер слова, другой — великий мастер человека в слове. Убери одного — другой осиротеет.
Нет аргументов, могущих категорично доказать автору, что он не поэт, так как все эти аргументы разбиваются о твёрдые лбы своенравия и обиды.
В предыдущих заметках, касаясь всевозможных конкурсов на поэтической карте России, я никак не надеялся, что как-то пройму и устроителей, и участников, ибо аудитория моя невелика, а все действующие лица этих соревнований гиперболически страдают жаждой признания или голодом денег.
Даже сами названия конкурсов говорят о некоторых изъянах мышления людей, с разных сторон причастных к ним.
Премия «Наследие», к примеру, учреждена Романовским домом, представители которого, помнится, гнобили и Пушкина, и Лермонтова, да и с другими великими писателями отношения имели не самые дружеские. Сейчас пропахшие нафталином наследники узурпаторов трона якобы пекутся о традиционных ценностях русской литературы, к уничтожению которой, как и самого русского языка, с удовольствием прилагали руки и Пётр, и Екатерина, и далее по списку. Династия, много лет презиравшая русский народ, положившая миллионы русских солдат за интересы «просвещённой Европы», разве имеет какое-то право устраивать конкурсы, да и, вообще, возникать на русском небосклоне? Наследие наше живо вопреки, а не благодаря им.
Поэты, призванные априори выступать против оболванивания народа — или горячо приветствуют данность или уныло сопутствуют направлению сознания людей в тихое русло всеобщего замешательства с логичным последующим помешательством каждого отдельно.